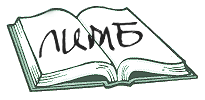 |
| | Эссе | | | Поэзия | | | Дебют | | | Публикации | | | Свежий № |
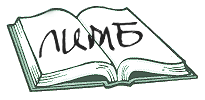 |
| | Эссе | | | Поэзия | | | Дебют | | | Публикации | | | Свежий № |
Кирилл Куталов
ФИНАЛ "КОТЛОВАНА"
"Люди хотят понять ту первичную силу, ту веселую буйную мать, из которой все течет и рождается <...> Сами мы должны прежде других проникнуться до конца этой силой, чтобы понять ее и передать это понятие другим"
"О любви"
Есть устойчивое ощущение, что в творчестве Платонова наличествует ряд произведений, прочно связанных с "Котлованом" какой-то одной мыслью, одним мифом, произведений, в которых последовательно и дополняюще выстраивается одна космогония. И вопрос о финале романа "Котолован" почти автоматически выводит на более общую проблему: о чем вообще этот роман? Этот вопрос достаточно опасен, поскольку велико искушение редуцировать эту мысль Платонова, сделать ее "удобной", уложить в какую-то одну формулировку. Или просто разобрать по частям, при том, что мысль эта чрезвычайно целостна, как и все его творчество - сплавлено внутри себя на каком-то межатомном уровне. В разгромной статье Л. Авербаха "О целостных масштабах и частных Макарах", по-видимому, лишь проводящей в массы сталинскую оценку, дается главное - помимо, очевидно, желания автора - определение платоновского творчества. "Двусмысленность". Отбрасывая негативную, ругательную стилистическую окраску, в этом термине видится и "объемность", и "многоплановость" и еще много "хороших" определений. И их необходимо учитывать при разговоре на данную тему - придерживаться этой "объемности".
"Я больше люблю мудрость, чем философию", писал Платонов он в 1923 году - эта мудрость, противостоящая философии, есть любомудрие, сопряжение мысли и жизни.
В удостоверении, выданном Подотделом сельхозмелиорации Воронежского Губземуправления Платонову Андрею Платоновичу, приводятся данные о работах, выполненых под его руководством с 12.09.23 по 15.05.26 (меньше чем три года). А сделано было вот что.
"Построено 763 пруда, из них 22% с каменными и деревянными водосливами и деревянными водоспусками;
построено 315 штатных колодцев (бетонных, каменных и деревянных);
построено 16 трубчатых колодцев;
осушено 7600 десятин;
орошено (правильным орошением) 30 дес.;
исполнены дорожные работы (мосты, шоссе, дамбы, грунтовые дороги) - и построены 3 сельские электрические силовые установки." (стр. 662)
Эти цифры не то что впечатляют, они даже несколько пугают. Они как будто бы и не из жизни Платонова, реально жившего человека, они как будто бы из его произведений. Здесь есть пафос и того времени - пафос индустриализации (он, безусловно, присутствует и в творчестве писателя), и еще один, в отношении к которому первый служит как его проявление в конкретно-исторических условиях, пафос делателя, творца. Он также является одним из главных для его романов и повестей. Творчество Платонова - тот его аспект, который важен для этой работы - в основном повествует о творчестве, о превращении уже данного в новое, о преображении. "Надо любить ту вселенную, которая может быть, а не ту, которая есть" - писал он в уже цитированном очерке. Преодоление, преображение данного - мечта и цель не только Платонова-мелиоратора, так ясно видная в его письмах жене из пустынь Туркменистана, но и Платонова-человека. Превращение должны претерпеть не только пустыни, поглотившие древние города, но в первую очередь душа человека, все, даже, казалось бы, такие неприкосновенные, традиционные ценности, как любовь. "Мое спасение - в переходе моей любви к тебе в религию. И всех людей в этом спасение." (Из писем в Ленинград, 1934 г.,)
В том же аспекте, котрый интересует нас теперь, объектом этого преображения-преодоления становится земля.
***
Земля - особенно болезненная тема для русского сознания на протяжении всего ХХ века. Можно сказать (судя по результатам), что ни один из вопросов, связанных с землей, до сих пор не решен, они лишь ставятся, каждый раз по-новому, и выхода вроде бы не предвидится. Земля - один из главных героев произведений Платонова. Упомянутая "двойственность", которой не могли простить литературные политики, которую вообще невозможно простить, принимая какую-либо одну политически детерминированную позицию (то есть неизбежно редуцируя, в самом худшем смысле этого слова) здесь еще и множится, превращаясь в "тройственность", "четверичность" и так далее. Земля - это целый комплекс представлений, неразделимых и проникающих одно в другое, более того, земля сама по себе способна производить эти представления, производить факты сознания. Из наблюдений над различными произведениями возникает несколько наиболее важных аспектов этого комплекса, те его составляющие, которые конструируют в наиболее общих очертаниях "земляной" миф Платонова.
В ранней работе "Человек и пустыня" описываются два типа хозяйствования на земле, два образа человека, живущего в контакте с землей. Первый - человек-разрушитель, "хищник и разрушитель природы", использующий землю только в соответствии со своими (это важно) потребностями и нуждами, "человек задается целью нажить от земли побольше и поскорее, а там хоть не расти трава" (там же). Такой способ приводит к появлению пустынь - стихийной, неуправляемой мертвящей силы, захватывающей "прочные, разумно распланированные города", ведущей к гибели целых народов. Второй - человек-инженер, который должен не только использовать природу (землю), но и "хранить ее и чинить от последствий нашего хозяйствования". "Мы пустыни должны переделывать в зеленые страны и обитель человека" - этими словами заканчивает Платонов статью. Таким образом, земля - не что-то косное и развивающееся по каким-то своим непостижимым законам, но вполне логично устроенный механизм (доступный для починки"), не живое существо еще, но уже не просто нагромождение перегноя. "Рост травы и вихрь пара требуют равных механиков" - слова из очерка 1922 года.
Сродни этому понимание назначения земли в новелле "Государственный житель", хотя здесь оно дается с большой долей иронии: "Почва, Леонид, главное дело - почва! А почва ведь и есть госдарственная территория, а территории тогда бы и не имелось! Где ж бы твоей траве поспеть было? В безвестном месте она не растет - ей требуется территория и землеустройство." Эта ирония формально совпадающих с цитированными выше слов понадобится в дальнейшем для понимания того, что же такое земля для Платонова.
В повести "Ювенильное море" мы видим уже более глубокое понимание земли - здесь она выступает как стихийное начало, ждущее освобождающего усилия. Сила подземного мира направлена на вполне реальные, четко обозначенные инженером Вермо цели: "Надо использовать тяжесть планеты! - заботливо решил Вермо наблюдая эту толщину местной земли. - Можно будет отапливать пастушьи курени весовою силой обвалов или варить пищу вековым оседанием осадочных пород..." В начале повести идущий на мясосовхоз Вермо начинает "собственную космогонию" - это космогония практическая, объясняющая стихийные явления землятрясений, извержений и "векового переустройства земного шара", космогония инженера, лишенная метафизической рефлексии.
И, наконец, "Котлован". На первый взгляд кажется, что здесь и не об этом вовсе - нет привычных мотивов рационального использования земли, нигде не идет речь о мелиорации и главные герои - пролетариат, а крестьянство (при всей условности этих терминов) подано в лучшем случае в виде забитого "желтоглазого мужика". Вместе с тем представляется, что и "Котлован" - о том же, только тема здесь достигает высшей точки осмысления, высшей степени абстракции. Есть несколько мест, говорящих об этом, вот одно из наиболе красноречивых и очевидных:
"Разные сны представляются трудящемуся по ночам - одни выражают исполненную надежду, другие предчувствуют собственный гроб в глинистой могиле, но дневное время проживается одинаковым способом - терпеньем тела, роющего землю, чтобы посадить в свежую пропасть вечный, каменный корень неразрушимого зодчества." "Посадить вечный корень" - о чем это, если не о земле? На этот раз не о той только земле, которая используется в целях сельского хозяйства, но о земле как необходимом элементе всего мироздания, как о жизненно важной стихии. Что бы то ни было может быть укоренено только в земле, и чем глубже и шире она возделана (чем глубже и шире вырыт котлован) тем прочнее и лучше будущее здание - будущая жизнь. Земля в "Котловане" понимается уже как метафизическая категория - и в то же время предельно реальная, конкретная. Назначение котлована и назначение земли одно - для будущей жизни. Эта будущая жизнь принимает вполне конкретные очертания: "необходимо как можно внезапней закончить котлован, чтобы скорей произошел дом и детский персонал огражден был от ветра и простуды каменной стеной." Это в то же время и стихия, и кубометры вынутого грунта. Или, скажем так, стихия, существующая и живущая по своим законам, каким-то образом доступным пониманию человека.
***
Итак, с одной стороны - стихия, с другой стороны нечто, доступное починке и улучшению. Однако доступное далеко не всем. В чем, например, разница между инженером Прушевским и инженером Вермо? Почему второй доводит себя до истощения всевозможными - вполне, кстати, осуществимыми, хотя и кажущимися фантастическими - проектами, а первый размышляет, вернувшись с земляных работ, ведущихся по его рассчетам: "Либо мне погибнуть?" Отчего инженер Вермо не может думать о звездах, не вспоминая при этом электромагнитную теорию Максвелла, а инженер Прушевский видит только как "вдалеке, на весу и без спасения, светила неясная звезда, и ближе она никогда не станет"? Что означают дважды повторяемые Платоновым - в 1922 и 1934 годах - слова о том, что "все научные теории, атомы, ионы, электроны, гипотезы, - всякие законы - вовсе не реальные вещи, а отношения человеческого организма ко вселенной в момент познающей деятельности"? Как различить "знание" и "науку" ("Я люблю больше <...> знание, чем науку")? Какое знание, какая мудрость дают человеку возможность жить на земле? Кажется, что в определении "отношения человеческого организма ко вселенной в момент познающей деятельности" говорится не о научном познании, а о обретении некоей мудрости, присущей природе - стихии - и могущей быть познанной человеком. И здесь важным представляются именно эти стихийные свойства земли, которые, собственно, и заставляют человека поступать так, как он поступает. При условии, конечно, что эта познающая деятельность как-то осуществляется.
Объектом творчества и познания для Платонова является земля. Изначально земля мертва. Это первое значение, которым человек, воспитанный в христианской культуре, наделяет землю как стихию, как один из элементов мироздания. Другие - вода или огонь - могут быть убийцами, латентными или активными, но для земли агрессивность не характерна, не заметна глазу, не проявляется вовне. Земля мертва как таковая, это мертвый элемент. Такое понимание закреплено обрядом погребения в земле - прах к праху. Это не является общим для всех культур, и понимание смерти во взаимосвязи со стихиями может быть различным. Так, например, в некоторых областях Тибета умершего оставляют на растерзание птицам, ассоциативно связанным со стихией воздуха, в других - опускают на дно озера, в скандинавских языческих обрядах покойника сплавляют в деревянной колоде вниз по течению реки или также опускают на дно - то есть подразумевается некоторая трансформация мертвого тела, вовлечение в последующий за смертью оборот, своего рода классический капитализм смерти. Христианская традиция такого не знает - "прах к праху", смерть просто накапливается в земле, уже мертвой и мертвящей изначально. Сожжение трупа и последующее погребение пепла не выходит из ряда, это лишь средство для того, чтобы избежать "безобразия" (полное разложение происходит в течение десятилетий), то есть опять же сохранить смерть посреди смерти. Смерть - другая половина существования, очень ясно заметная, например, в степи, перед лицом стихии земли (смерти). Степь - абсолютное воплощение одной стихии, стихии земли, степь сродни океану в том, что в ней все так же пропадает без следа - посреди монгольской степи стоит камень высотой полтора метра, с повязанной на него желтой истрепанной ленточкой, когда-то здесь стоял Чингисханов шатер. Монотонная земля, невыносимо медленно разрушающая органические останки, медленно и неуклонно: тление или окаменение.
Гастон Башляр в книге "Вода и грезы" проводит исследование мифологемы воды в мировой литературе - исследование воображения воды. Вода, огонь, воздух - существует мощная традиция описания этих стихий как в той или иной степени одушевленных. Земля же в этом ряду встречается крайне редко, а в качестве героини элегии или объекта медитации, грезы ее даже трудно себе представить, и это при том, что она - неотъемлемая часть ансамбля стихий во всех мифологиях.
Главные свойства стихии земли, по крайней мере, первой стороны стихии - монотонность, единообразие, нерасчлененность и, что самое главное, результирующая мертвенность и мертвящесть. Это известно инженеру Прушевскому, уже согласившемуся с мыслью о своей собственной смерти: "Вечное вещество, не нуждавшееся ни в движении, ни в жизни, ни в исчезновении, заменяло Прушевскому что-то забытое и необходимое, как существо утраченной подруги". Прушевский испытывает "равнодушие ясной мысли, близкое к наслаждению" от соприкосновения с этой стороной стихии земли, это и есть та "наука", больше которой Платонов любил "знание". Герой-философ (не мудрец, а философ, ищущий истину), Вощев, обращается к Прушевскому с вопросом об устроении мира. "Нас учили каждого какой-нибудь мертвой части, - отвечает Прушевский. - Всего целого или что внутри - нам не объясняли." Представляется, что подход Прушевского к земле - как к совокупности мертвых предметов - не в состоянии дать вообще никакого ответа и никакого осмысления стихии. В границах этой науки земля и есть тот прах, который может служить только для погребения или для обеспечения механики покоя, статики. Все, что может происходить в мире Прушевского, происходит на поверхности земли, и все это смертно, превращается в прах, во всевозможную "безвестность" - скудный урожай, собираемый Вощевым.
Инженеру Прушевскому в романе противостоит Чиклин. Явного противостояния нет, но эти два героя находятся в отношении именно оппозиции: "Чиклин имел маленькую каменистую голову, густо обросшую волосами, потому что всю жизнь либо бил балдой, либо рыл лопатой, а думать не успевал". Во время этого рытья с Чиклиным происходит одна замечательная вещь, несколько раз подчеркиваемая в романе - это "истощение", как бы переход "чувства жизни", по выражению Вощева, в землю: "Чиклин, не видя ни птиц, ни неба, не чувствуя мысли, грузно разрушал землю ломом, и его плоть истощалась в глинистой выемке...". Незадолго до этого философ Вощев пугается подобного откровения, не решается ему верить: "Не убывают ли люди в чувстве своей жизни, когда прибывают постройки?" Здесь уместно вспомнить метафору корня, примененную Платоновым для того, что делают люди на котловане, и мы получим довольно странную картину - это истощение как будто сродни некоему жертвоприношению, принесению в жертву самого себя ради того здания, чем бы оно ни было, которое надлежит построить. Человек отдает себя "глинистой выемке" (уже довольно тревожный образ), идет "вглубь и вширь" почвы, передавая ей свое чувство жизни, чтобы в итоге созданное им было живо.
Чиклин как будто бы знает - не умея это знание высказать словами, выражая его только, так сказать, "оперативно" - какую-то тайну земли. Чтобы описать это знание как нельзя лучше подходит очень важное для Платонова слово "нечаянно", означающее, по-видимому, стихийность, самородность и проводящее четкую границу между "философией" и "мудростью", "знанием" и "наукой". Именно это "нечаянное" знание Чиклина является для существования в пределах земной стихии нормой, хотя и способно напугать обыденного, не "нечаянного" человека, например, Прушевского. Что-то такое Чиклин знает о земле, что позволяет ему выходить за пределы обычных представлений - за пределы первой, привычной стороны стихии. Опрощая, можно сказать, что холодная "наука" Прушевского так относится к "знанию" Чиклина, как формально верные рассуждения Петра Евсеевича Веретенникова из "Государственного жителя" к мысли Платонова-автора "Человек и пустыня".
"Все мертвые - это люди особенные" - говорит Чиклин, как будто уже-умершее, ставшее мертвым или данное как мертвое может все еще использоваться живыми, для каких-то их нужд. Смерть, уже состоявшаяся смерть, не понимается им как конец, но в крайнем случае свидетельствует о жизни. Для него (и только для него) возможен разговор с мертвыми людьми (между мертвыми Козловым и Сафроновым), Чиклин разглядывает их как живых: "Козлов продолжал лежать, умолкшим образом, будучи убитым; Сафронов также был спокоен, как довольный человек, и рыжие усы его, нависшие над ослабевшим полуоткрытым ртом, росли даже из губ, потому что его никто не целовал при жизни." Он обращается к ним: "А ты, Козлов, тоже не заботься жить. Я сам себя забуду, но тебя начну иметь постоянно." Даже поцелуй мертвого не тождествен поцелую при панихиде, что естественным образом сбивает с толку Прушевского:
"Спустившись в убежище женщины, Чиклин наклонился и поцеловал ее вновь.
-Она уже мертвая! - удивился Прушевский.
-Ну и что ж? - сказал Чиклин. - Каждый человек мертвым бывает, когда его замучивают. Она ведь тебе нужна не для жилья, а для одного воспоминания."
"Батрацкие останки", собираемые Вощевым - свидетельства смерти, и в то же время "редкие, непродающиеся" игрушки для девочки. Мертвые нужны - хотя бы для воспоминания. Настя несколько раз просит принести ей "мамины кости". Настя сама была как бы взята от костей - от умершей матери. Чиклин замуровывает вход в помещение кафельного завода, мотивируя это тем, что "мертвые тоже люди" и добавляет: "Но она мне нужна. Пусть сэкономится что-нибудь от человека - мне так и чувствуется, когда я вижу горе мертвых или их кости, зачем мне жить!" Мертвые, пока они не в земле, находят применение в мире живых, смерть имеет ценность.
Подводя некоторый промежуточный итог, можно сказать, что в рамках "земляного" мифа смерть и жизнь (как они находятся нами в обыденном представлении) меняются местами, перестают значить то, что значили. Происходит разрушение закона тождества: смерть не есть смерть (в смысле конца), и жизнь не есть жизнь.
***
Если с первой половиной этого утверждения все более или менее понятно - смерть не есть смерть, мертвое используется живыми и продолжает свое существование (Чиклин и Вощев), а окончательная смерть, настоящая, возможна только как исключение из оборота существования (сплавленные по реке на плоту кулаки), то со второй частью возникают определенные трудности.
Есть очень важный образ, важный для Платонова - дети, как сущность, назначение и воплощение мира. Только в них и для них этот мир может быть оправдан, вне них он немыслим. "Коммунизм - это детское дело" - говорит Жачев из "Котлована". "Женщина перегоняет через свою кровь безобразие и ужас земли", "<...> женщина лишь подготовляет искупление вселенной. Свершит же это искупление ее дитя, рожденное совестью мира и кровью материнского сердца"- говорит Платонов в статье "Душа мира". Вера, первая женщина Чагатаева из повести "Джан" существует только постольку, поскольку носит в себе ребенка - его будущую жену.
Но в то же время здесь есть обман. Все прозрения и космогонии, устроенные "по эту сторону" земли, хороши для других, "привычных" условий, например, тех, о которых мечтает в тишине летней ночи инженер Прушевский, но не там, где правит стихия земли. Любая попытка установить на пустой земле вертикаль, (мечта Прушевского о "башне в середине земли") ведет к гибели.
Финал "Котлована" - смерть Насти. Примечательно описание могилы, сделанной для нее Чиклиным: "Гробовое ложе Чиклин выдолбил в вечном камне и приготовил еще особую, в виде крышки, гранитную плиту, дабы на девочку не лег громадный вес могильного праха." Этот процесс консервации смерти будет важен для нас в дальнейшем, пока лишь необходимо отметить, что для всех героев романа Настя была олицетворением смысла, живым смыслом, в отличие от той зафиксированной истины-схемы, которую пытался найти Вощев. Ведь это и его раздумья над мертвым телом: "Зачем теперь нужен смысл жизни и истина всемирного происхождения, если нет маленького и верного человека, в котором истина стала бы радостью и движеньем?" Смерть Насти в романе - исчезновение самого вектора "будущее", исчезновение, если угодно, трансцендирующего момента, возвращение из "будущего" на землю, в мертвящую стихию. "Будущая жизнь" обращается в смерть.
Так представляется на первый взгляд. Но и это тоже не совсем верно. Вероятно, нужно какое-то иное понимание земли, по-другому повернутое, чтобы и эта смерть не становилась смертью. И это тоже знает "нечаянный" человек Чиклин.
Вообще в описанном уже "жертвоприношении" (истощении) нет ничего из ряда вон выходящего. Это своего рода малое жертвоприношение, повседневное. Его выполняет как Чиклин, так и Вощев и даже Козлов. Но оба они - Вощев и Козлов - лишены в романе некоего важного свойства, которым наделен Чиклин. Это свойство - андрогинность, мужественность (чтобы не сказать сексуальность). На это указывается в воспоминании о его прошлой жизни: "Когда-то он был моложе и его любили девушки - из жадности к его мощному, бредущему куда попало телу, которое не хранило себя и было преданно всем. В Чиклине тогда многие нуждались как в укрытии и покое среди его верного тепла, но он хотел укрывать слишком многих, чтобы было и самому чего чувствовать...". Этот же мотив показывается и в воспоминании Чиклина о девушке - дочери хозяина кафельного завода - для него как бы более воплощенной, чем для Прушевского: "дочь хозяина его однажды моментально поцеловала", и дальше, во фрагменте, в котором Чиклин ведет инженера к мертвой женщине и целует ее.
Земля же - и это другая сторона стихии - непреодолимо женственна. Земля "родит", дает "урожай", это и "мать-земля" и так далее. Уместно привести и такой факт, что простейший плуг - рало - имеет фаллическую форму. Земля - женственность, женщина же у Платонова оправдана не из самой себя, а только через ребенка, и весь мир оправдан через ребенка, женщина (земля) "перегоняет через свою кровь безобразие и ужас земли" ("Душа мира"), "в женщине живет высшая форма человеческого сознания - сознание непригодности существующей вселенной, влюбленность в далекий образ совершенного существа" (там же). И действия Чиклина в котловане в результате этих двух факторов носят также андрогинный характер. Его "истощение" - не усталость Козлова, и не томление по истине Вощева - это именно мужское истощение, результат отдачи себя. "Страсть тела, двигающего человека ближе к женщине <...> не только наслаждение, но и молитва, тайный истинный труд жизни во имя надежды и возрождения, во имя пришествия света в страждущую распятую жизнь, во имя побед человека." ("Душа мира") Бесспорно, есть "страсть" и в Чиклине, и ведь созидающая страсть, избыточная, и такая же, как "безмолвие любви" - немая.
Далее, представляется, что для Платонова не существует измерения "в настоящем" - настоящее есть уже некоторое прошлое, как минимум то, чему должно прекратиться, временное - захлестывающее этот момент "прошлое". "В настоящем" уже означает "в прошлом", поэтому в принципе Насте и надлежит умереть - быть принесенной в жертву, в большую жертву. Нельзя забывать, что это жертва отдается земле, глубине земли. Это как бы встреча двух сторон стихии - смерти и жизни. Если "высота" и "настоящее" относительно земли есть смерть, по крайней мере, направлены к смерти, то жизнь должна находиться где-то "внизу", в еще не добытом "будущем". Именно Чиклин, а не мечтавший об этом Прушевский, "замыкает круг" поцелуя, приравнивая Настю к ее матери - настоящее=прошлое, а значит, ему надлежит уйти в землю для будущего. Как и всякая стихия, земля двойственна. Есть что-то по ту сторону - внизу, в самой земле. Потенциал земли, стихии, огромен, и весь он - внизу, как ювенильное море - в будущем.
Платоновские образы потрясают глобальностью и связанностью одного с другим. Если "Котлован" может показаться описанием первой, смертной стороны земли, то "Ювенильное море" - открытие этой живительной почти что жути, с которой едва ли можно справиться. Жизнь идет из глубины, глубина земли дарует жизнь, и не только животную жизнь, но и какую-то довольно абстрактную энергию - инженер Вермо мечтает "использовать тяжесть планеты" и варить пищу "вековым опусканием осадочных пород". Это определение само по себе уникально, в нем соседствуют два слова со значением "вниз", но этот плеоназм и дает ощущение той самой непостижимой силы, составляющей сущность земной стихии как дарующей жизнь. "Вековое" же только еще раз подчеркивает характер происходящих процессов, медленных, вечно разрушающих и вечно созидающих.
Нельзя обойти вниманием и образ самого ювенильного моря, моря юности, девственных/материнских вод, лежащих в толще земли в "кристаллическом гробу". Представляется, что это ассоциативно связано с образом могилы Насти из "Котлована" - Чиклин выдалбливает в граните углубление затем, чтобы "в нее не смог проникнуть ни червь, ни корень растения, ни тепло, ни холод, и чтоб ребенка никогда не побеспокоил шум жизни с поверхности земли". Иными словами, только похоронив что-то "когда-то давно", простившись с чем-либо как с мертвым можно обрести это вновь, как уже снова живое. Могилы, подобные той, в которую Чиклин положил Настю есть на юге Франции, в Италии и Испании - вестготтские захоронения, выдолбленные в камне и прикрытые каменными крышками. С той лишь разницей, что вестготты заранее включали своих мертвецов в процесс умирания/возрождения, оставляя два отверстия для входа/выхода воды - тело медленно возвращалось в землю уже трансформированное в воду, стихию, изначально понимаемую как животворящая. Нельзя не отметить сходство (скорее всего, подсознательно угаданное, или данное как откровение) этих образов - "перегонки через свою кровь безобразия и ужаса земли" и превращение "в земле" смерти для кристальных вод будущего ювенильного моря.
Можно, опять же опрощая, сказать, что Вера для Чагатаева есть то же, что земля (эта земля, на которой он сейчас работает) для Чиклина. Ювенильное море для Вермо есть то же, что дочь Веры для Чагатаева. А Настя в каменном гробу для Чиклина есть то же, что нерожденное пока дитя Веры для Чагатаева и Ювенильное море для "будущих поколений", прозреваемых Вермо.
Едва лишь принимая мертвое тело, принимая смерть вообще, земля-смерть превращается в землю-жизнь Это вторая часть откровения земли, данного Платонову - смерть не есть смерть; смерть - начало жизни, добраться до "прошлого", до "глубин", до самой смерти в земле (до ювенильного моря (похороненной девочки)) означает добраться до жизни.
***
Финал романа "Котлован" - не конец отдельной, в конкретных пределах удерживаемой книги. Да и вряд ли можно рассматривать то или иное произведение Платонова вне общего контекста его творчества - слишком все здесь органично, слито одно с другим. Возрождение земли, вечно погибающий и возрождающийся мир, силы стихий, способные открыться человеку - все это нужно как-то по-особенному понять, целостно, быть может, даже не столько понять - разумом, наукой - сколько постичь, ведь это разные вещи. Говоря словами Платонова (статья "О любви") это повествование о "силе, которая настолько сильна, что может обессилить себя и перестать быть силой, о красоте, которая может стать безобразием и чудовищем, если захочет, о свободе, для которой сладка и желанна бывает неволя, и об истине, которая одевается ложью и все-таки бывает истиной, настолько она всемогуща. Жизнь смеется и из гробов." Платонова, по-видимому, нельзя постигать в частностях и исходя из частностей (ведь и он сам понимал и религию, и науку как только частности, частные конкретно-исторические формы познания). Да, в "Котловане", в "Ювенильном море" речь идет о человеке на земле, о человеке, находящемся в тесном соприкосновении со стихией. И все же это, во-первых, о человеке, и уже потом о каком-то конкретном человеке в конкретных условиях. О человеке, который стремится "понять ту первичную силу..." Это повествование об открытии истины, это повествование о познании. В этом - прометеевском по существу - жесте может проглянуть и дьявольская сторона (ведь Прометей, есть также и Люцифер, "светоносный", сатана, враг рода человеческого), если бы не тонкая грань, проведенная Платоновым. Снова стоит вспомнить об "отношении человеческого организма ко вселенной в момент познающей деятельности" - истина эта не вне человека, она "лежит в пределах человечества и не распространяется дальше".
©Кирилл Куталов
©ЛИМБ
| Начало | | | Эссе | | | Поэзия | | | Дебют | | | Публикации | | | Свежий № |